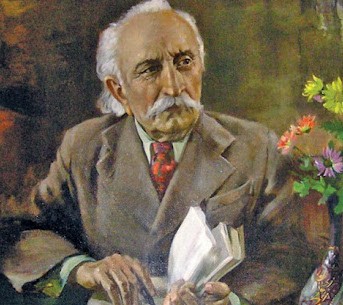Согласно закону о «дальневосточном гектаре», любой гражданин России может безвозмездно на пять лет получить землю в Якутии, Приморье, на Сахалине с правом ее приватизации, в случае если сумеет ею верно распорядиться. Станет ли этот закон тем стимулом, который вернет на Дальний Восток жителей и жизнь? О том, что влечет людей в дальние земли и может их там удержать, беседуем с Владимиром Чепигой, художником, педагогом, приехавшим на Сахалин в 1964 году.
Как вы попали на Сахалин?
Длинная история. В 1964 году я познакомился с фотокором «Комсомольской правды» по югу России Лешей Плешаковым. Я в ту пору оканчивал художественное училище в Ростове, увлекался альпинизмом, а он только что вернулся из кругосветки на шхуне «Заря» — научного судна от Академии наук. И так его рассказы меня разволновали, что я начал добиваться распределения на Дальний Восток. И был направлен на Сахалин. Помимо меня туда ехали еще две девочки, но, в отличие от них, я не собирался там оставаться. Это лукавая мысль была. Я решил: приеду во Владик и сразу в порт, наймусь матросом на кругосветку — писать, рисовать и прочие романтические бредни. Прибыл во Владик, а там говорят: «О, братец, как раз ты вовремя явился! Тут наших матросов могут в армию забрать, так лучше сдадим тебя». Я думаю: «Не-ет, поеду-ка сначала, куда послали, а потом пусть берут». Так я оказался на острове и буквально на третий день устроился на работу в отдел иллюстраций в газету «Советский Сахалин».
Помните свои первые впечатления от этих мест? Вы как ехали — из Совгавани на пароме?
Парома тогда еще не было. Добирался из Владивостока на пароходе, и дорогу эту запомнил на всю жизнь. В пути я встретил боцмана. Он бывал в дальних плаваниях и всю дорогу рассказывал про Кубу. И вот, плывем, пенное фосфоресцирующее море, и ночь напролет этот боцман заливает мне мозги своими рассказами. Сам-то остров тогда мне не очень понравился. Мы в Холмск подошли. Небо хмурое, ну порт, домишки, в облаках сопки. А вот когда я поехал поездом в Южно-Сахалинск через Чертов мост — там красота.
В 1960-е в Южно-Сахалинске было много пожаров. Горели леса, горели города — сплошь деревянные.
Да, и потому на Сахалине была самая мощная пожарная команда, по Cоюзу чуть ли не первое место занимала. И все жители сидели на чемоданах. Мне на первых порах дали жилье в поселке Угольщиков. Дом деревянный — так мне сразу сказали: «Ты смотри, вещи держи в одном месте, чтобы в случае чего схватить и бежать». Когда я приехал, в Южном уже было много панельных хрущевок. Но наша редакция и типография помещались в совершенно замечательном двухэтажном деревянном японском здании, вытянувшемся вдоль центральной площади. Все оно было скрипучее, все пело, пошатывалось, ходило ходуном, все пропитано специфическим духом типографских красок, худого туалета, прокопченных куревом старой древесины и обоев… На лестничных клетках стояли железные бочки с водой и ящики с песком и окурками. Тут же над ними — пожарные щиты с топорами и крючьями и табличка «Не курить!».
А люди? Что за «островное общество» вы нашли по приезде?
Меня поразило огромное количество корейцев. Они с давних пор на Сахалине. Их депортировали сюда японцы — они и остались. Только со временем стали в другую страту перемещаться. Если в 1960-х это были в основном земледельцы, то сейчас они все в банках, офисах и аптеках. На земле одни старики, да и те нанимают китайцев, киргизов и других азиатов, которые в последнее десятилетие заполонили остров. А японцы ушли почти все. Первых депортировали в 1945-м, остальные выехали в 1947-м. Я застал нескольких, но их было так мало, что со временем я уже всех знал лично. Хотя было много смешанных семей — японско-корейских, русско-корейских…
Уходя, японцы оставили хорошее наследство. Например, узкоколейку. Она действует до сих пор, и потому поездам, которые едут с континента, на Сахалине меняют колесные пары. Кроме того, на острове все еще находят японские схроны — армейские консервы времен Второй мировой, посуду, мебель и прочее…
Да чего только не находят! У меня есть приятель, Миша, — он помешан на Японии. Копает, достает все, что от них осталось, у него уже приличный музей. С научной точки зрения, его находки стоят мало, но само это хобби очень приветствуется с японской стороны. Они с ним общаются, его поощряют. Но это сейчас, а раньше подземные галереи, которые обнаружили в центре города, спешно засыпали. Слава богу, отстояли японское здание, где ныне помещается городской музей, а вот традиционные ландшафтные дворики спасти не смогли. Они уничтожены — общественность поставили перед свершившимся фактом.
Какой была атмосфера Сахалина 1960-х?
Сейчас атмосфера дурная, на мой взгляд. А тогда было много молодых из Москвы, Ленинграда, Свердловска. Это был уникальный этнический и социальный состав. Весь народ был хорошо заряжен и с крепкой землей под ногами. Хоть и витали в облаках, почву ощущали прекрасно. Они оканчивали лучшие университеты СССР и по распределению ехали на Сахалин. Многие на остров бежали. Например, Алина Чадаева, чтобы ее не арестовали в Горьком. Она была дочкой от первого брака управделами Сталина (при Хрущеве — заместителя председателя Госплана РСФСР) Якова Чадаева. В конце 1950-х на нее как-то вышло КГБ, дома был обыск, ей посоветовали уехать. Сейчас она в Москве, но метафизическую связь с островом не теряет. Считает, что здесь родились не только ее дети, но и она сама в какой-то новой ипостаси, и даже шутя называет себя Сах-Алина. Она автор книг о Чехове, великих князьях Романовых, исследований культуры коренных народов Севера и Дальнего Востока, стихов и повестей.
Мой папа прибыл на остров так же. Его отца репрессировали в 1937-м, поэтому из Тулы он уехал учиться не в ближнюю Москву, но в Свердловск, а работать — и вовсе в Южно-Сахалинск.
Отец твой появился на Сахалине года на четыре раньше меня и стал моим первым товарищем в редакции. А художник Гиви Манткава бежал из Грузии. Он был романтиком, путешествовал, был не последний человек в тбилисской богеме. Что-то противное его природе там произошло, он решил укатить из Грузии, приехал на Сахалин, женился на местной журналистке и остался здесь на всю жизнь. Теперь и Сахалин, и Грузия гордятся заслуженным художником РСФСР Гиви Манткавой. Его уже нет в живых, но в память о нем проходят выставки, издаются книги…
А бывшие заключенные царской каторги? Вы застали кого-то из них?
Как-то в командировке в Макарове я встретил деда, который помнил тех, кто тянул срок. Но из коренного населения меня больше восхищали молодые. Например, Владимир Санги. Это гигантская фигура вообще в культуре. Этот человек восстановил героический эпос своего народа, нивхов, который до него бытовал только в устной традиции и неизвестно, сохранился бы или нет. Создал нивхскую письменность и нивхский букварь, перевел на родной язык классику русской литературы. Памятник ему за это надо ставить… Мы чувствовали себя очень свободными и к тому же «хозяевами земли», в чем убеждала нас наша идеология. Но не «хозяевами-собственниками», а «хозяевами-трудниками». А потому мы горячо возмущались проявлениями бесхозяйственности, следили, чтобы зря не горели лампочки и электроприборы, и, если видели, что днем на улице работает освещение, звонили в Горсеть. Редактор наш, Вася Парамошкин, нам многое спускал.
Помню, отец твой месяцами болтался в океане. Уходил в командировку на 20 дней, а возвращался через 60, а то и больше. Этим все грешили. Всегда можно было отговориться: «Нет корабля, плохая погода, самолеты не летали». Нередко так и было. Сейчас поносят то время, но дух был высокий. Случались, конечно, неприятности, давление было, но сегодня я думаю: все правильно, духу для бодрости необходимо противодействие. Помню, раз в редакцию после отпуска с Памира я приехал с бородой. Там, на большой высоте, сильная радиация, и, чтоб не было раздражения, я бриться перестал. Приезжаю с бородкой — Вася Парамошкин на меня: «Что за крысиные хвосты, немедленно сбрить!» Я: «И не подумаю!» Он мне: «Сбри-ить!» и что-то покрепче. И я в него как швырну чернильницей!.. Я-то молодой дурак был, а он — молодец какой! — стерпел и отношения выровнял. Другой на его месте меня размазал бы. Через два года, когда я приболел, он выбил для меня квартиру, где я живу по сей день. И бороду с тех пор так и ношу.
Те, кто отправлялся работать на Сахалин, получали больше, чем в среднем по стране. Сколько?
Они и остались, эти коэффициенты. Я-то приехал после посещения Хрущева, когда он их поубавил. Было 100 процентов — сделали 40. И отпуска давали длиннее, чем по стране, — хоть их оставили. А с визитом хрущевским просто не повезло. Стояла хорошая погода, лето, и он сказал: «Так это курорт, чё они тут жируют!» Но народ ехал на Сахалин не за длинным рублем, а, скорее, открыть себя, обрести личную свободу, состояться здесь, «на краю земли». И не важно, по романтическим мотивам они здесь оказались или по распределению и путевкам. Сюда же на стройки приглашали, на лес, на бумажные комбинаты. Молодежь, легкая на подъем, у которой высокие образы складывались в голове, собралась в одном месте. Биографии интереснейшие.
Я был свежий человек и сразу со всеми перезнакомился. Все субботы и воскресенья мы обязательно уходили в лес, в сопки. Зимой — лыжи, летом — грибы, рыбалка. Помню, отец твой меня и еще одного нашего коллегу потащил по грибы в район Березников. Туда на автобусе, а обратно автобусов не видать, до города километров двадцать… Пошли с полными корзинами пёхом по новой бетонке. Вдруг черная «Волга» нас догоняет и тормозит. Это первый секретарь обкома Павел Артемович Леонов объезжал строящиеся объекты и, узнав в нас сотрудников редакции, довез каждого до дома. Можно ли представить себе подобную ситуацию сегодня?.. Пушкарь приобщил меня каждый зимний выходной забираться на пик Чехова. Эти лыжные прогулки стали нашей традицией. А осенью отправлялись на рыбалку. После прокуренной «конторы» вырваться на природу для нас было счастьем.
Сахалинцы всегда осознавали свою «отдельность». Покинуть остров называлось «слетать на материк». Но свою «малую родину» они не забывали, уже одним этим привязывая дальнюю территорию к остальной стране. Вы бывали в Таганроге каждый год. Цена билета не мешала?
Об этом не задумывались. По приезде я получал копейки, 110 рублей плюс гонорары. Но надо было мне в горы — летел на Памир, Тянь-Шань, Кавказ. И домой к родителям ездил ежегодно, порой не раз. А заскучал по столице — летел в Москву, порой на три дня, сходить на выставку или премьеру. Спокойненько смотришь — и назад.
Обратная связь тоже существовала. Переселенцы тащили за собой свой уклад и традиции. На Дальнем Востоке до сих пор полно деревень с украинскими и русскими названиями, и выглядят они так же, как в Центральной России. С чем вы пожаловали на Сахалин? Откуда вы родом, из какой семьи?
Родился-то я в Таганроге, но род мой древний казачий, происходит из запорожских казаков, осевших в станице Уманская. Там жили и дед, и прадед — все сородичи. Мы — одна из ветвей Захария Чепиги — атамана, который привел Черноморское войско на Кубань. Сам Захарий детей не имел. Наш род пошел от его воспитанника и племянника, полковника Евтихия. Мой дед был старшиной улицы, прадед — пластун, разведчик, весь в крестах. Бабушка Агафья, которую он украл по сговору у моего прадеда, рассказывала о его наградах, о дивных картинках и фотографиях из Персии и других неведомых стран на крышке сундука, портретах казачьих генералов. Эти рассказы аукнулись годы спустя в поселке Угольщиков, где переселенцы по выходным и праздникам пели родные казачьи песни. Часами я мог внимать знакомой манере распева. Но пришла эра магнитофонов.
У Владимира Матросова, нашего друга и коллеги, который и сам из казаков и также сбежал на остров со своей женой из Риги, появились записи казачьих песен Бориса Александровича Алмазова. Мы ими заслушивались, и я решил разыскать этого барда. А Господь ведет. У моего друга нашелся приятель, который его знал. С его рекомендацией я поехал в Ленинград, и мы встретились. Это был 1982 год. С той поры я занимаюсь историей и культурой казачества. Сегодня книги уже старинного моего товарища, атамана Северо-Западного округа Союза казаков, историка казачества Бориса Алмазова занимают достойное место в моей библиотеке. Тогда же, в 80-х, в Ленинграде я получил благословение заниматься фольклором и от выдающегося специалиста в этой области Анатолия Михайловича Мехнецова, который позже стал президентом Российского союза любительских ансамблей (сейчас Российский фольклорный союз). В нем я состою вот уже четверть века.
Вы сами как начали фольклор собирать?
В моем детстве страна была разорена войной, но книжки, диафильмы с былинами и чудными волшебными сказками, а позже фильмы Роу, Птушко были доступны любому ребенку. Мои бабули излагали Евангелие в дивном народном толковании, а пели так, что вся округа собиралась слушать. Приезжаешь домой — собирается народ: «Приехал Вовка, родич приехал!» А раз родич — как встречать? Во дворе выставляют столы, мальчишки на велосипедах раскатывают по станице, созывают народ. Человек 25–30 собирается родичей — и понеслась. Столы ломятся от еды, огромные бутыли «четвертей», заткнутые кочерыжками кукурузы обещают трапезу до петухов. Пока тетушки, бабушки, сестры, дядьки, браты обнимаются, бабушка Мария (моя двоюродная) спохватывается — нет Капустихи!
Это дальняя родственница с хорошим голосом, без которой никуда: в станице «спивают» только «припетые» компании. Капустиху приводят, застолье распочато… Вспоминают, рассказывают семейные легенды, донимают вопросами виновника схода, и песни, песни… Шуточные, лирические, воинские, исторические, родовые… Садятся в семь вечера — и часов до пяти утра. Когда расходятся — петухи орут, собаки лают. Так было всегда, но в 1970-х, когда твой отец достал мне портативный магнитофон, я стал записывать мои встречи с родственниками. Теперь это уникальный материал, который я использую в своей казачьей школе… Бабушка Мария голосила «верха» аж до 93 лет, а потом: «Нэ можу, Вовка, я буду тихэсенько, низом»… Так было до ее 98 лет, а через год ее не стало. Вместе с тетей Валей, ее дочерью, бабушка напела мне десятки колядок, духовных стихов, игровых попевок, песен и наговорила ценнейший материал по казачьему быту в станице.
От нее я узнал о моем деде, который помер от тифа в 1919 году и тем спас семью от расказачивания. Бабушка осталась с пятью малыми детьми, и ее не тронули… В конце 1980-х я понял, что этим опытом надо делиться, и открыл в Южно-Сахалинске художественную школу с акцентом на народное творчество. Эту идею я «подглядел» у моего петербургского товарища — художника Гирвеля. У него была большая детская студия лаковой миниатюры. Я посмотрел, как у него дети работают, и заинтересовался. К тому же в Московском полиграфическом институте я учился с художниками из Федоскина. Они показывали мне приемы письма в лаковой миниатюре, привозили кисти наших мастеров. Лучшие кисти в мире! Бабушки и дедушки вязали эти кисти. Никакие голландские, никакие китайские, которые считались тогда «супер», с ними в сравнение не шли. Ими пишут и федоскинцы, и в Палехе, и в Мстёре, и в Холуе. Так формировался у меня вкус к народному искусству, а позже пришла идея школу открыть.
Как удалось ее осуществить?
Я обратился в местное управление культуры и предложил при какой-нибудь школе создать «художку». Меня поддержали, я договорился с директором английской школы и проработал там два года. Следующим местом был муниципальный центр «Подросток» для детей из неблагополучных семей, воспитанников детских домов, приютов, специализированных школ. Принцип был такой: обучить их какому-нибудь ремеслу, чтобы они могли денежки зарабатывать. Но это нехорошая идея была, потому что нельзя из детей прибыль извлекать. Поняв это, я отказался и перешел во Дворец детского творчества, где работаю по сей день. Изначально у меня была четкая программа — создать при дворце казачью школу. Директриса меня поддержала, и мы открыли Лицей народной культуры. В нем преподавали и общеобразовательные предметы, так как административно лицей был связан со средней школой № 10.
Сколько детей у вас училось?
Два класса по 25 человек. Причем набрали их сразу, конкурс был пять-шесть человек на место! Мы взяли за основу программу Занкова и насытили ее фольклорным материалом. У нас даже общеобразовательные предметы были ориентированы на народное творчество. На русском, литературе изучали сказки, пословицы и поговорки, народные игры, ставили спектакли. Учителей специально подбирали. Я бегал по школам, упрашивал, в департамент ходил. Не так просто найти учителя, кому охота портить нервы за копеечную зарплату! Но так или иначе, у меня подобрался прекрасный состав подвижников: энергичные опытные учителя начальных классов, молодой музыкант с хорошим владением гармошкой, баяном и балалайкой, педагоги по ремеслам… Ну а ИЗО, декоративно-прикладное творчество, народный театр, фольклор и боевой пляс я вел сам, так как, будучи членом Российского фольклорного союза, ежегодно подпитывался в казачьих лагерях, на фестивалях…
Наш ансамбль «Бунчук» был заметным явлением в культурной жизни города, с ним мы ездили по всей стране, становясь лауреатами различных конкурсов. Летним заданием у детей было собирание фольклора. А какие у нас были праздники! Введение во храм Богородицы, Кузьминки, День жен-мироносиц — это девичьи праздники; Николы Зимнего и Егория Вешнего — праздники мальчиков. 8 Марта мы отмечали как Веснянки, а еще Пасху с катанием яиц и звоном на колокольне — храм наш через дорогу от школы. Сейчас почти все эти дети пооканчивали в Питере и Москве ВУЗы. Кто-то из них вернулся на Сахалин, кто-то остался на материке, но и родители их, и они сами говорят, что ничего лучшего они не помнят… Лицей просуществовал три года, а потом его закрыли. Сказали, что вводится жесткий образовательный стандарт, что нельзя работать по своим программам, перемежая общеобразовательные уроки с творческими, — и в этих объятиях задушили.
В 2012 году вы открыли казачьи классы. Этот проект жив сегодня?
Жив пока, но с ним сложно. Решение о казачьих классах было принято, когда в Южно-Сахалинск приехал председатель Совета при президенте РФ по делам казачества, представитель президента при ЦФО Александр Беглов. Это была его инициатива, но реализовали ее формально. В качестве базы для этих классов выбрали среднюю южно-сахалинскую школу № 4 — окраинную и непопулярную. Рядом барак и соответствующая публика — алкоголики, бомжи и прочее. Пришли директриса, замначальника департамента меня просить. Я сначала уперся, а потом подумал: я же занимался с воспитанниками приютов! Решил, чё тут — возьмусь, буду работать. Начал, и оказалось, в каждом классе до 30 процентов киргизов и таджиков — всего у меня 160 детей в этой школе.
А это по большей части мусульмане. Мне довелось в свою альпинистскую пору жить в Азии. Народ этот по степному укладу и вольному нраву чем-то напоминает казаков. Их и называли до ХХ века не «казахами», а «казаками», а Киргизия именовалась Киргиз-Кайсацкой, то есть казацкой, ордой. И знаешь, какой у меня сейчас вывод? С детьми киргизскими среднего уровня легче работать, чем с русскими. Они меньше избалованы, не такие развращенные, знают, что есть авторитеты, есть взрослые. Есть среди них и совершенно неуправляемые — учителя за голову хватаются. Но я знаю одно: я, как педагог, должен воспитывать ребят в ценностях нашей культуры и нашего веротерпимого народа. Вот и все. Таджик, русский — какой бы ребенок ко мне ни попал, буду с ним работать, и то, что я ему несу, он будет разделять.
В перестройку люди стали покидать Сахалин. Бегут до сих пор, и государство не знает, как остановить это. В начале 2010-х в прессе прошло сообщение о «добровольном» переселении 80 казачьих семей на Курилы. Совсем недавно появился закон о «дальневосточном гектаре». Каковы, по-вашему, перспективы этих начинаний?
Что касается переселения на Курилы, оно существует только на бумаге. Когда дошло до дела, ни казаков, ни нормативных документов на землю не оказалось. А ведь в 1990-х у нас была земля для постройки станицы и хозяйственной деятельности — целых 234 гектара! Сделали межевание — да только где нам было поднять ее без помощи? Нужны были дороги и прочая инфраструктура… Пять лет простояла земля, был даже станичник, который пытался там обустроиться. Но оказалось — один не воин, хотя он держался долго, отбиваясь от браконьеров. Когда подписали закон о «гектаре», владение попытались возобновить. Несколько казачьих семей хотели на бывших землях станицы, ныне пустующих, выращивать овощи по новейшим технологиям органического земледелия. Да где там! Чиновники не хотят нам их отдавать.
Землица недалеко — 18–20 километров от города, вкусный кусок! А чтобы соблюсти закон, предлагают «угодья» в Тымовском районе — в 500 километрах от Южно-Сахалинска! Беда в том, что сейчас многие — даже родовые казаки — тянутся на какую-то халяву сесть, ждут, что кто-то им что-то отщипнет. Есть и такие, которые, как и власть, считают, что сначала надо экономику развивать, а потом все остальное. Я же уверен — начинать нужно с воспитания, с культуры. Системно работать можно только с детьми, с взрослыми уже ничего не поделать. Мы так развратили население, что остался лишь малый процент людей, сохранивших какую-то квалификацию. Поэтому у нас и трудятся только гастарбайтеры — мы уже не умеем. Ну получу я гектар — на что он мне, когда я нравственно к этому не готов, живу без земли под ногами? А обрести ее можно только через духовное воспитание. Не будет его, станут продолжать друг друга обманывать, стяжать. Как говорится в казачьей поговорке — Бог дал путь, а черт крюк. Так вот многие несутся этим крюком, и встать на путь пока получается.
Автор Александр Пушкарь журнал «Русский мир»